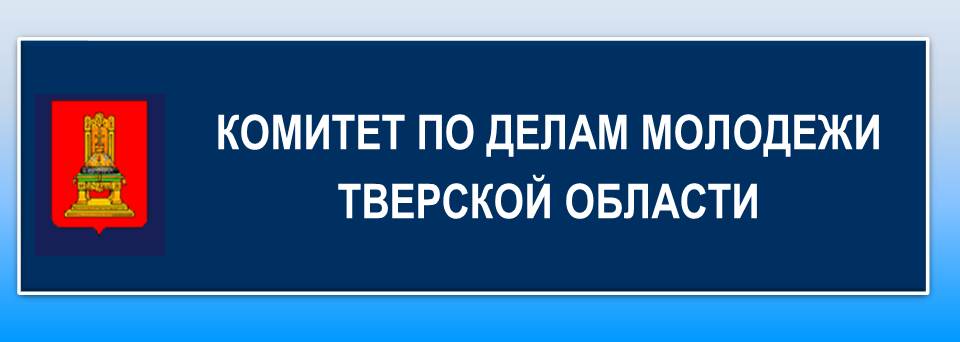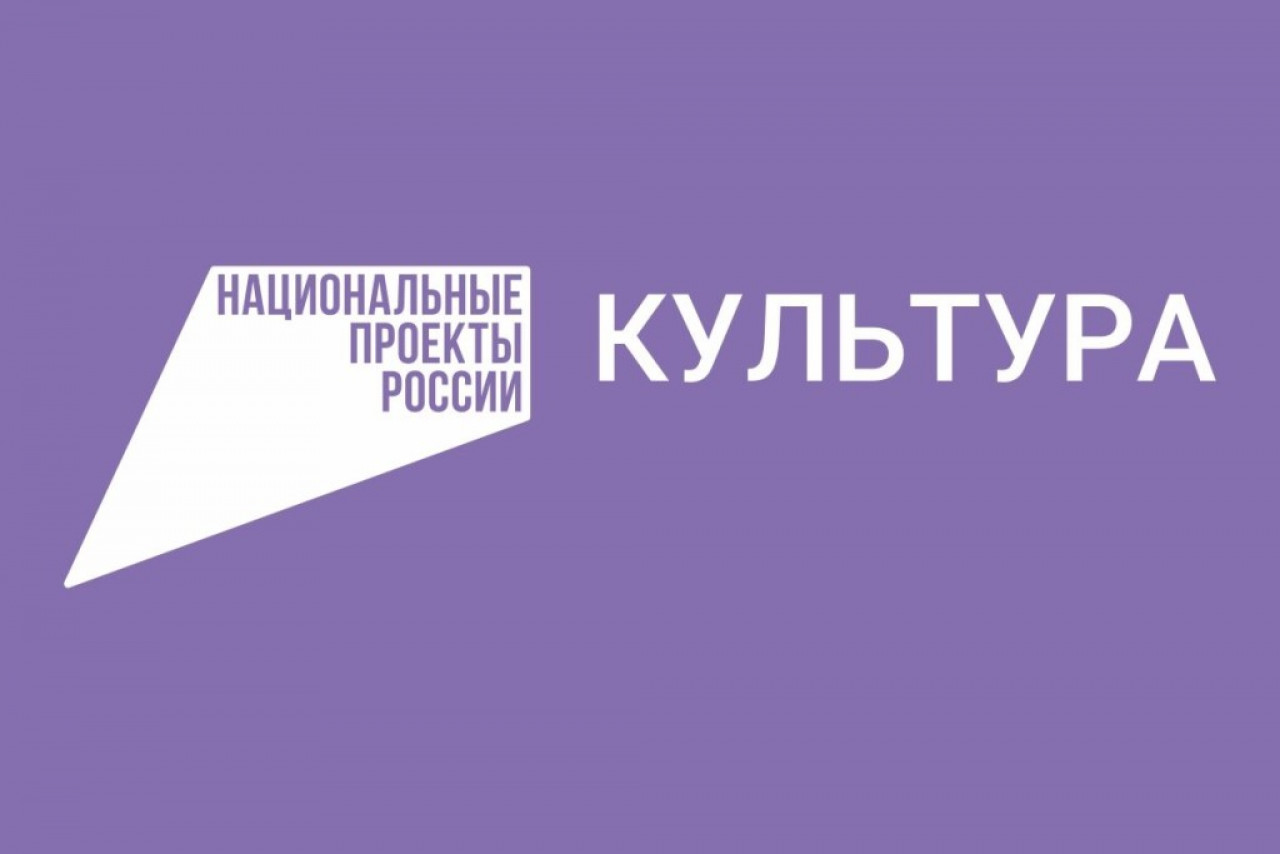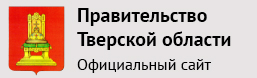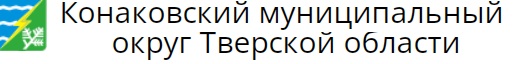Жила эта компания дружно, зимой спали на чердаке, располагаясь прямо на полу, а весной и летом — во дворе, в сарае.
Сюда-то и спешил Порфирий Петрович, когда Грецов послал его за газетой. Все, что могло ему повредить в случае обыска, Конаков быстро уничтожил, а газету «Искра» захватил.
Мастер посмотрел ту газету, что отобрал раньше, прочитал, шевеля губами, названия статей; «Несколько слов русскому обществу», «Письмо английских социалистов», «Письмо из Прибалтийского края», взглянул на другой листок, злобно скомкал газеты и тут же бросил их в печку. А потом, как уже привык это делать, сел и, с трудом выводя слова, настрочил донос в полицию.
Лифляндское губернское жандармское управление начало следствие. Вызвали Конакова, Шарапова, Вальтера, Грецова, пригласили и управляющего заводом Никифорова.
Следователь-жандарм написал, что номера «Искры» и «Накануне» «по содержанию своему должны быть отнесены к явно революционным». Наивность, с которой Конаков и Шарапов рассказывали о происшествии, помогла рабочим. Жандармы взяли их на заметку, но решили, что двое рабочих случайно попали "в историю с нелегальной литературой.
Другое дело с Вальтером, хотя он тоже прикинулся было простачком.
- Иду, — рассказывал он жандармам, — в трактир «Ливония», вдруг вижу лежат на земле газеты, Я поднял их. По-русски читать не умею, вот в трактире и передал Конакову и Шарапову.
Жандармы не поверили Вальтеру. Дома у него сделали обыск, но ничего уже не нашли. И все же начальник Лифляндского губернского жандармского управления Прозоровский решил Вальтера «впредь до разъяснения обстоятельств настоящего дела содержать под стражею в одиночном помещении при Лифляндской губернской тюрьме». Арестовали его 2 февраля 1902 года. Только через полтора месяца Вальтеру разрешили свидание со стариками-родителями, надеясь таким путем добиться от него признания. Но ни Конаков, ни Шарапов, ни сам Вальтер ничего больше не сказали. Не подействовали и угрозы жандармов. Улик же оказалось недостаточно. Поэтому, продержав Вальтера в тюрьме три месяца, его вынуждены были выпустить. Любопытно, что это сделали по указанию министра юстиции, после того, как тот доложил о всей истории Николаю II.
Если бы знали и жандармы, и министр, и царь, что именно в это время один из заподозренных, Конаков, вел упорную и деятельную работу, создавая подпольный профессиональный союз рабочих и служащих промышленных предприятий в Риге. Принцип организации был строго конспиративный — по «пятеркам»: каждый член профсоюза знал только четырех своих товарищей. Одним из правил союза было обеспечение семьи арестованного активиста. Если кто-нибудь предлагал привлечь в союз человека, любившего выпить. Конаков всегда выступал против.
- Пьяный и без злого умысла все выболтает, — говорил он.
В Кузнецове, на родину Конакова, изредка доходили вести о Порфирии. Аграфену Андреевну они и радовали и пугали. Старая работница была довольна, что сын ее — такой способный и умный — стал борцом за народное счастье, вступался за обездоленных и угнетаемых. Мать втайне гордилась сыном, но открыто признаться в этом боялась. Страшно иногда становилось, что сын против царя пошел. У царя-то сколько войска, а защитят ли Порфишу его товарищи?
Однажды Аграфена Андреевна пришла на почту за посылкой от сына: Порфирий любил посылать матери и сестрам подарки — и все из разных городов, не сообщая постоянного адреса: партийная работа требовала частых переездов. Почтмейстер Щуклин сказал:
- Ну, мать, не за дело твой сын взялся. Не по тому пути пошел.
Тревожно сжалось сердце у Аграфены Андреевны. Она шла домой и думала:
«Не может Порфиша плохо поступать».
Еще больше поверила она в это, когда сын однажды летом приехал домой погостить. Кузнецовские девушки смеялись над его городским нарядом, особенно над штиблетами, которых здесь и в глаза не видывали. Ботинки считались обувью женской. Кто-то сказал:
- Артист.
Под этим прозвищем с тех пор и прослыл, Порфирий Конаков в Кузнецове. В Риге, в подпольном кружке социал-демократов у него была другая, партийная, кличка «Егорка».
В мае 1903 года «Егорка» Конаков снова едва не попался в руки жандармам, и опять выследил его проныра Алексей Грецов.
Мастер узнал от кого-то из своих наушников, что живописцы Петр Вишняков и Иван Косолобов вместе с Порфирием Конаковым, Алексеем Шараповым — теми, кто читал подпольные газеты в трактире «Ливония», собираются и говорят крамольные, по мнению Грецова, речи. Мастер тут же написал управляющему заводов А. Никифорову, что между этими рабочими «происходят революционные рассуждения противоправительственного содержания и по слухам будто бы у них находятся воспрещенные брошюры и журналы».
Нашлись на заводе люди, сочувствовавшие социал-демократам. Они шепнули Конакову о доносе. Пристав 4 участка Московской части г. Риги, не дожидаясь жандармов, самолично произвел обыски. Ни у Конакова, ни у других рабочих ничего «предосудительного» найдено не было.
Рижский полицмейстер переслал копию грецовского доноса начальнику Лифляндского жандармского управления, прокурору окружного суда и фабричным инспекторам. Жандармам удалось запугать Косолобова, и он стал их агентом. Конаков, Шарапов и Вишняков остались верны партийному долгу и были занесены в черный список неблагонадежных лиц.
Порфирия Конакова жандармы считали наиболее опасным. Правда, они не смогли уличить в чем-либо этого живописца, твердо вступившего на путь подпольной революционной работы. Но ведь осталась еще возможность провокации. Ее-то и использовали жандармы.
В начале 1905 года кассир Кузнецовского завода Малькевич нес из банка 6 тысяч рублей. Возле пивоваренного завода «Ливония» его встретили пятеро в масках. Три тысячи золотом они взяли, а три тысячи кредитными билетами, номера которых могли навести полицию на след, выбросили.
Жандармы обвинили в экспроприации Конакова. Он был арестован, но из-за отсутствия доказательств привлечь его к суду не удалось. Порфирия Петровича выслали на родину, в село Кузнецово Тверской губернии.
Жандармам важно было убрать Конакова из Риги, где настроение рабочих многих предприятий становилось все революционней. Сюда дошли известия о событиях 9 января, и рижане стали готовиться к всеобщей забастовке. Начались многотысячные демонстрации и шествия с красными флагами. 12 января всюду в Риге прекратилась работа, в том числе и на фабрике Кузнецова. Администрации были предъявлены решительные требования об улучшении условий труда. На следующий день, когда рабочие многих заводов снова собрались и двинулись в город через Двину, войска открыли по ним огонь. Несколько человек было убито, многие утонули в реке.
В начале марта у рабочих фарфоро-фаянсового завода было особенно боевое настроение. Ненавистного управляющего А.Н. Никифорова рабочие посадили в угольный мешок, так что только голова торчала, бросили на тачку и под неописуемые крики, хохот, свист и улюлюканье вывезли из заводских ворот на Московскую улицу, вывалили в яму и прикрыли тачкой.
Этот суд рабочих совершенно взбесил миллионера Кузнецова. Он послал Никифорову сочувственную телеграмму, предлагая уволить любых" рабочих, а если нужно, — закрыть на неопределенное время завод. Но это были уже не прежние времена. Приходилось считаться с рабочими. Не раз еще в том же году они устраивали стачки, требуя сокращения рабочего дня, повышения расценок, увольнения наиболее жестоких мастеров, а также изгнания агентов охранки Баринова и Косолобова.
Как ни храбрился М.С. Кузнецов, а в конце концов пришлось ему пойти на уступки.
Только отрывочные сведения о событиях в Риге доходили до Конакова. В это время он был на пути к родным местам.
Семья Конаковых — мать и пять сестер — ютилась на прежнем месте, в так называемых «грунтах» — заводских казармах. Недавно похоронили отца Петра Ивановича, но Порфирия известить не могли: не знали адреса. Старшие сестры работали на заводе. Клавдия была связана с подпольным революционным кружком: пример брата помог ей выбрать путь.
Из уездного города Корчевы урядник написал в заводской поселок Аграфене Андреевне Конаковой: «Сим извещаю, что сын ваш Порфирий Петров Конаков, освобожденный из тюрьмы, по этапу следует в г. Корчеву».
Всполошилась Аграфена Андреевна. Стала расспрашивать, когда ожидается партия арестантов, все точно выведала. Даже узнала, что если погонят по этапу из Твери, то обязательно заночуют в селе Сучки.
Мать решила ехать встречать сына не в Корчеву, а в Сучки — так она увидит Порфирия на сутки раньше. К назначенному дню собрали Конаковы кое-какую еду — решили передать Порфирию пышек, яичек да творогу, — пусть и сам поест из близких рук и товарищей угостит. Аграфена Андреевна взяла с собой девятилетнюю Нюшку. Старый да малый пешком отправились в путь.
Но вот беда — в Сучках сказали:
- Теперь этапных не пешком гонят, а из Твери в Корчеву на пароходе по Волге везут. Так что никакой ночевки в пути не будет.
Посоветовали:
- Возвращайтесь немедля в Кузнецово. Если поторопитесь — успеете. Как раз к тому времени пароход подойдет.
И верно: успели. Но тут стряслась новая беда: пароход пристал и выяснилось, что арестантское отделение с другой стороны — той, что на Заволжье смотрит. Горько заплакали и мать и сестра Порфирия: экая незадача!
Нашлись добрые люди, шепнули Конакову, что на пристани ждут родные. Тут же и его ответные слова передали Аграфене Андреевне: «Как будет пароход отваливать — встану у окна».
Пароход отвалил от пристани, развернулся, чтобы вниз плыть, и Конаковы увидели Порфирия: стоял он в серой арестантской одежде, но лицо, хоть и осунувшееся, а счастливое. На всю жизнь запомнила Нюшка, как крупные слезы одна за другой ползли по морщинистым щекам матери, падая с острых скул на рябенькую от многих стирок кофточку.
Анне Петровне было шестьдесят лет, когда рассказывала она мне про эту встречу с братом, а передала все, с подробностями — так врезалось ей в память каждое слово, сказанное в Сучках и Кузнецове.
Долго смотрели Конаковы вслед удаляющемуся пароходу, а потом побрели домой. Мать всю дорогу плакала, утирая слезы концом старушечьего платка.
Наутро прискакали в Кузнецово два конных стражника:
- Конакова! Исправник требует в Корчеву, сына принимать.
До Корчевы — 12 верст. Стражники ехали на лошадях, а следом за ними, глотая дорожную пыль, шли Аграфена Андреевна и увязавшаяся за ней Нюшка. Девочка боялась, что мамку застегают «казаки» (еще со времен забастовки 1886 года это слово стало пугалом для кузнецовских ребят).
Пришли в Корчевскую тюрьму. Исправник явился, сказал:
- Привести!
Вошел Порфирий Петрович, бледный, измученный, но с тем же счастливым и гордым блеском глаз, который был заметен и накануне, на пристани в Кузнецове.
- Признаешь своего сына? — спросил исправник.
- Признаю, — чуть слышно не проговорила, а как бы выдохнула Аграфена Андреевна.
- Что же ты его воспитать не могла? — опять спросил исправник, ковыряя веточкой в зубах. Он только что пообедал и был настроен благодушно.
Мать молчала. Что ему ответить? Мол, именно так и воспитала, чтобы боролся ее сын за справедливость, за народное счастье.
- Ну? — нахмурил брови исправник.
Мать пожала плечами:
- Когда Порфирий со мной жил, все было хорошо. А в Риге ему толком работать не давали.
- Пусть здесь работает. Я записку дам. Только, чтобы тихо, благородно. Народ не мутить.
Порфирий Петрович ничего не сказал и вышел.
Нюша устала. Зашли в трактир, попили чаю, а потом попросились на попутную телегу и доехали до Кузнецова.
- К отцу-то на кладбище пойдешь? — спросила Аграфена Андреевна.
- Умер? — вскрикнул Порфирий. — Что же ты не написала?!
Невесело усмехнулась Аграфена Андреевна:
- А где ж тебя искать-то, ты сообщил?
На кладбище Порфирий долго стоял возле могилы отца, а сказал только:
-Эх, батя, батя.
Весь май 1906 года он пробыл дома. Часто бывал и в июне, но все куда-то ездил, возил прокламации, книги. Только однажды мать узнала — и то случайно, — что побывал Порфирий в Ярославле. В июле собрался уезжать совсем.
- Далеко? — несмело подняла на него глаза Аграфена Андреевна.
Тихо сказал Порфирий:
- В Кронштадт. Не знаю, как доберусь.
Денег у него было в обрез, — пятнадцать рублей, и их набрали всей семьей.
Так началась последняя — самая героическая — глава в славной жизни Порфирия Петровича Конакова.
Что же в это время — летом 1906 года — происходило в Кронштадте, крепости, призванной охранять морские подступы к столице Российской империи — Петербургу?
Первая русская революция еще продолжалась. Совсем недавно, 8 июля 1906 года, была распущена 1-я Государственная дума, и Ленин писал, что надо это использовать для агитации с призывом к всенародному восстанию.