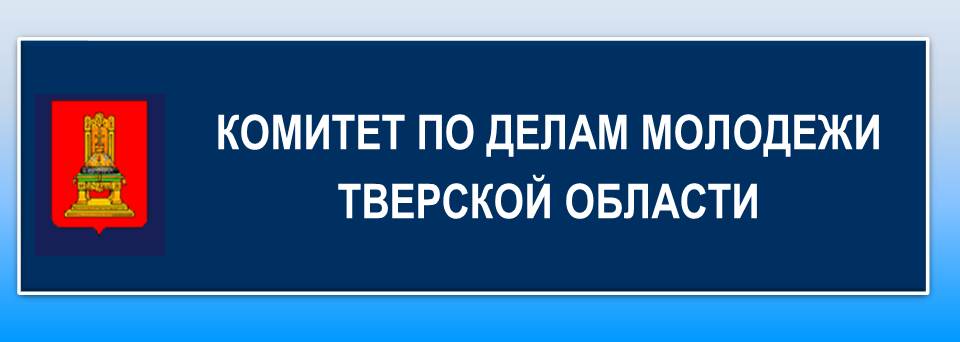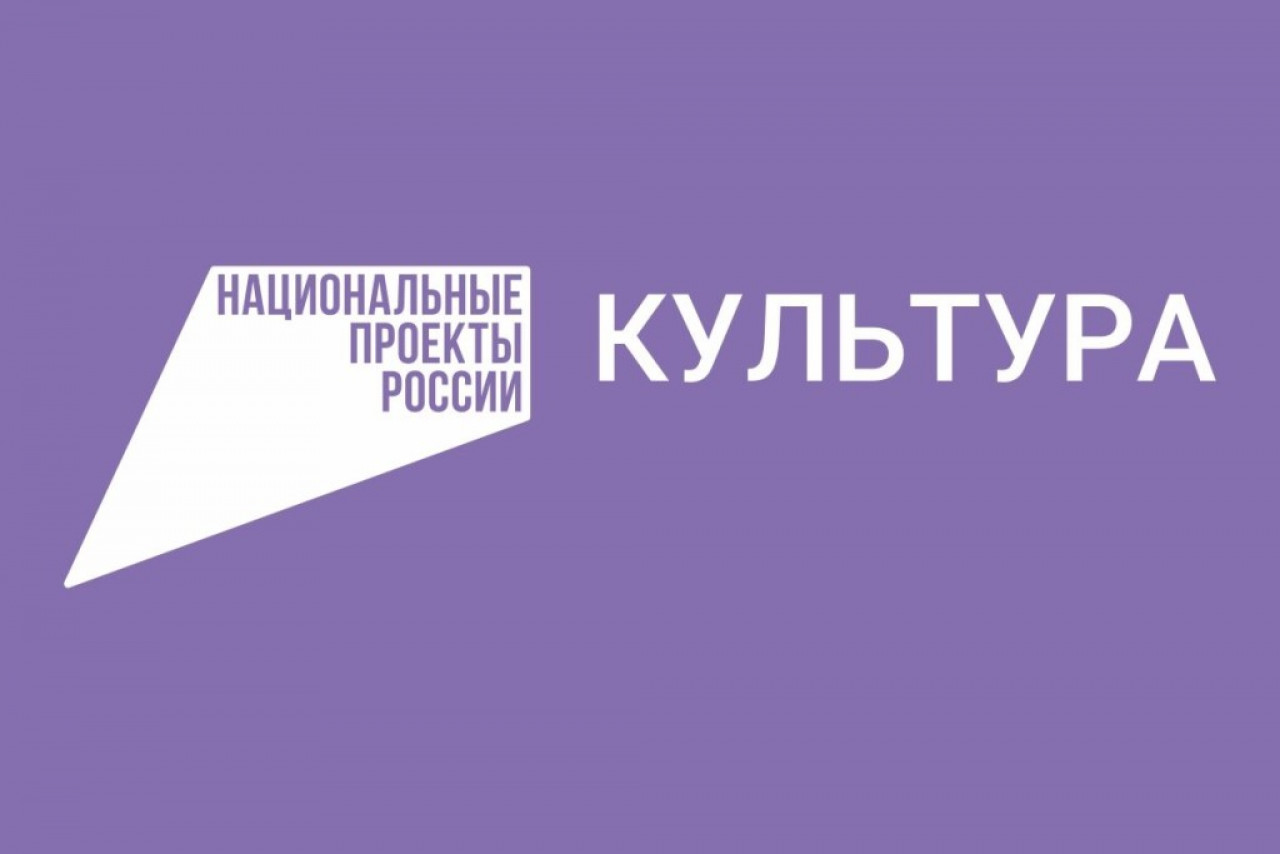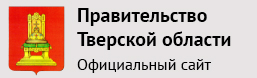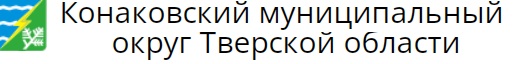Пути-дороги. Из книги: Арбат Ю. Конаковские умельцы, 1957. (Подрябинников Т.З.). Не зря эту вазу выставили в музее. Она достойна, чтобы ею любовались. Дело, однако, совсем не в том, что ваза поражает своими размерами: создавали их у нас и покрупнее. Ее украшает своеобразная живопись: берег широко разлившейся Волги; березки свесили зеленое ажурное кружево листьев; голубоватые дали, за которыми угадывается простор родной земли, — как хорошо удалось художнику передать милый подмосковный пейзаж, а главное, как удивительно свежи и мягки краски!
Пути-дороги. Из книги: Арбат Ю. Конаковские умельцы, 1957. (Подрябинников Т.З.). Не зря эту вазу выставили в музее. Она достойна, чтобы ею любовались. Дело, однако, совсем не в том, что ваза поражает своими размерами: создавали их у нас и покрупнее. Ее украшает своеобразная живопись: берег широко разлившейся Волги; березки свесили зеленое ажурное кружево листьев; голубоватые дали, за которыми угадывается простор родной земли, — как хорошо удалось художнику передать милый подмосковный пейзаж, а главное, как удивительно свежи и мягки краски!
Даже специалисты, пораженные этими красками, останавливаются перед вазой в Государственном музее керамики в Кускове, Они-то, конечно, знают автора — его почерк обладает чертами, которые не дадут спутать работу художника ни с чьей другой. Специалисты могли бы рассказать кое-что и о том, как расписана ваза.
И фарфор и фаянс обычно расписывают, накладывая краски на блестящую поверхность глазури. Если художник ошибся, он может подправить или даже, смочив тряпочку скипидаром, смыть нарисованное, написать заново. Правда, краски, наложенные поверх глазури, несколько грубоваты. К тому же они не так уж прочны — от времени стираются.
Есть и другой способ. Можно вазу или блюдо расписать и до того, как изделие покроют глазурью. Для этого применяют не обычные краски, а окислы или растворы солей металлов. Такие краски после обжига приобретают глубину и мягкость. Защищенные глазурью, они вечны. Правда, в распоряжении художника тогда окажется мало тонов или, как выражаются фарфористы, палитра будет скромна. Ведь далеко не все краски выдерживают высокую температуру обжига. Есть и другие подводные рифы в этом увлекательном, но опасном плавании: писать под глазурью очень трудно. Художник должен обладать верной рукой: поправки почти немыслимы. Нужно очень хорошее сырье, т.е. масса, из которой формуется вещь; приходится учитывать, что контуры рисунка обычно расплываются, а краска (если работают растворами солей) иногда проходит сквозь стенку вазы или блюда.
Мало кто знает, каких трудов стоило создать эту вазу.
Первая неприятность ожидала художника, когда он заговорил в формовочном цехе об изготовлении ваз. Ведь таких крупных и массивных вещей — почти метровой величины — на этом заводе почти никогда не делали. Фаянсовый завод им. Калинина выпускал тарелки, самое большее — суповые миски. Сообразно с этим построен и весь производственный процесс, начиная с приготовления массы и вплоть до обжига. Большую вазу приходилось формовать вручную, стенки ее оказывались различной толщины, и когда она выходила из горна, где-нибудь обязательно оказывалась трещина.
Масса должна лежать долго. Применяют не очень красивое выражение — она «гниет»: находящиеся в ней микроорганизмы помогают ей стать более тонкой, эластичной, податливой в лепке и прочной.
Художник, создававший вазу, учел это и постарался раздобыть самую старую массу, какая оказалась на Конаковском заводе. Это была масса не обычной двухмесячной выдержки, а еще с довоенных времен, примерно семи-восьми лет. Скульпторы жалели, что ее хватило только на одну вазу. Для страховки отформовали двадцать ваз и тоже не из обычной массы, а из специально созданной в заводской лаборатории. Все вазы пропустили через так называемый утильный обжиг, который проводится еще до глазуровки для придания вещи крепости. Затем художник расписал одиннадцать самых лучших ваз.
Особенно удалась ваза из довоенной массы. Всем она взяла: и сама была аккуратная, и краски на ней легли ровно, и глазурь отличалась нежностью и чистотой.
Художник обрадовался успеху и в нетерпении, не дожидаясь, когда она окончательно остынет, взял домой. Назавтра он собрался ехать в Москву и везти вазу в музей. Заказ он получил по одному из эскизов.
Но не успели поставить вазу на стол и выйти в соседнюю комнату, как раздался звон. Художник кинулся обратно. Ваза стояла на столе, но через рисунок, изображавший берег Волги и березку, шла большая трещина. В течение следующего дня ваза дала еще несколько трещин.
Пришлось все начинать сначала.
В конце концов ваза получилась именно такая, какую хотел создать автор, и она была выставлена в музее. Возле нее появилась табличка: «Художник Т.3. Подрябинников. Московское море. Подглазурная роспись растворами солей».
Долгий путь пришлось пройти Трифону Захаровичу Подрябинникову, прежде чем ему удалось постичь тайны подглазурной росписи. Семи десятков лет едва хватило ему на это.
Он родился в Житомире, в старообрядческой семье маляра-кровельщика, учился у дьячка на медные гроши и, только попав на курсы грамотности для взрослых, узнал о рисовании и стал копировать картинки из книжек. С особой благодарностью вспоминает Подрябинников учителя рисования Дмитрия Ефимовича Антонова, основавшего «бесплатные вечерние курсы рисования для взрослых».
Хорошо было бы поехать в Петербург или Москву серьезно учиться живописи. Но для этого нужны немалые деньги, а где их взять? Несмотря на любовь к искусству, Трифону Захаровичу пришлось думать о том, на что жить. Оставив пока надежды на Академию Художеств, Подрябинников поступил в местную учительскую семинарию. Были в этом решении соображения и не материального порядка. Под влиянием книг революционных демократов Трифон Захарович стал думать: «Если мне и удастся стать большим художником, то что это даст народу? Что даст моим братьям и миллионам таких, как они? Картины мои купят купцы и помещики, повесят в своих домах, и народу они будут вдвойне недоступны: и по месту нахождения и по уровню потребностей народа. Сначала надо подготовить народ к восприятию художественных ценностей».
После окончания семинарии Подрябинников стал учителем начального Мало-Дорогостаевского училища. Утром в классах сидело шестьдесят ребят, вечером — сорок взрослых. Учитель после уроков по-прежнему рисовал, писал статьи о преподавании рисования и лепки в «Известия Волынского губернского земства», готовился к поступлению в московское училище живописи, ваяния и зодчества. Первая мировая война задержала выполнение этого желания — Подрябинников ушел на фронт, был ранен и долго пролежал в госпитале. Но все же в канун Октябрьской революции он стал студентом Училища Живописи, ваяния и зодчества. А потом опять Волынь, учительство и занятия живописью, до тех пор, пока в 1923 году Подрябинникова не перевели в местечко Барановку, в школу-семилетку при фарфоровом заводе. В местной школе ФЗО он стал преподавать рисунок. Это было началом крутого поворота в жизни художника.
Конечно, живя возле завода, Подрябинников захотел познакомиться с фарфоровым производством. Он увидел огромное количество фарфора и ему показалось, что все эти белые чашки, белые чайники, белые тарелки так и зовут художника. И Трифон Захарович решил попробовать.
У начальника живописного цеха Базлова он попросил белую посуду и керамические краски.
Подрябинников нарисовал на полоскательнице (она была побольше чашки) украинский орнамент и нарочно нанес краску разными приемами и слоями различной толщины.
Обжигальщик у муфельных печей подал Трифону Захаровичу обожженную полоскательницу и сказал:
- Неудача.
Но Подрябинников посмотрел на результаты обжига и ответил:
- Удачнее и быть не может.
- Да вы посмотрите, — стал спорить обжигальщик, — здесь краски попузырились, а здесь выгорели. Золото все потонуло.
- Вот это-то и хорошо. Это моя первая работа. Теперь я многое знаю: что надо делать, а чего допускать нельзя.
На следующий же день Подрябинников принялся за роспись чайных чашек. Одна была совсем простенькая. Когда она удалась, Трифон Захарович сделал вещь сложную: снова он использовал украинский орнамент, окружив им три пейзажика, изображавшие окрестности Барановки.
После этого много эскизов и рисунков на фарфоре сделал Трифон Захарович Подрябинников. На той же Барановке он стал бороться против изрядно надоевших цветочков, стремясь использовать для росписи индустриальные мотивы и темы труда и применяя механизированные приемы украшения массовой посуды. Став заведующим школой ФЗО, Подрябинников побывал на других фарфоровых заводах, а потом уехал из Барановки на волховский завод «Коминтерн». Именно там произошел второй поворот в жизни художника, навсегда определивший его творческие интересы.
Однажды, зимой 1927 года, Трифон Захарович сидел и писал акварелью пейзаж. За спиной его остановился заведующий производством Евгений Осипович Бильфельд, долго наблюдал за работой, а потом спросил:
- Фарфоровой акварелью вы никогда не работали?
- Даже не знаю, что это такое, — улыбнулся Подрябинников.
- Если, хотите, я приготовлю вам краски, а вы попробуете, — предложил Бильфельд.
Через несколько дней из лаборатории принесли пузырьки с жидкими прозрачными красками.
«Как же ими писать?» задумался Подрябинников. На этот вопрос никто не мог ответить, даже Бильфельд, который немного читал о том, что на Копенгагенской фарфоровой фабрике в Дании и на Императорском заводе в Петербурге пробовали писать растворами солей металлов по так называемому «утилю», то есть по сухому, впитывающему краску черепу фарфора, обожженного один раз.
«Работа подскажет!» подумал Подрябинников.
И он сделал первые пробы: однотонные цветочки, потом роспись с тенями, постепенно увеличивая число тонов, все больше и больше усложняя рисунок. Хотя это были робкие шаги в совершенно новой области, художник остался доволен первыми своими успехами. Обычные надглазурные краски ему показались теперь грубыми, кричащими. На них было приятно смотреть только вначале, а затем они надоедали. Не то у подглазурных красок, которые на первый взгляд производили впечатление, как будто более тусклых, но чем дольше на них смотришь, тем глубже, мягче и привлекательнее они кажутся.
Подрябинников решил написать вазу на лирический сюжет, который соответствовал бы нежному характеру новых красок. И он написал девушку на берегу реки, под березкой, с которой свисает зеленая кружевная листва. Девушка ждет любимого. Можно разглядеть и его: на другом берегу он отвязывает лодку, чтобы ехать на свидание. Ваза «Ожидание» имела успех. В газете «Ленинградская правда» был помещен снимок с нее и заметка о работе Подрябинникова.
Но хотя автор расписал тогда же растворами солей еще блюдо («На пашне»), дальше этого дело не развилось. Руководство завода потребовало внедрить новый метод в массовую раскраску. Из этого ничего не вышло: сам автор не был удовлетворен тем, что сделал. А тут он перебрался на другой завод, и дело заглохло на целых семь лет.
Подрябинников работал на заводе «Пролетарий», на Дмитровском в Вербилках, на Дулевском имени газеты «Правда». Его привлекали, главным образом, рисунки для массовых изделий, но иногда он создавал и уникальные вещи, например, сервиз «Физкультура», находящийся сейчас в Кусковском музее.
В Дулеве Подрябинников снова взялся за подглазурную живопись растворами. Но это были уже не пробы, не опыты, а серьезное изучение новой отрасли живописи — увлекательной и необычной. Не все у него шло гладко. Бывали срывы, изделия шли в брак, иногда постигала полная неудача.
Подрябинникову часто говорили:
- Вы что: хотите открыть тайну датского фарфора?
Трифон Захарович видел датский фарфор в музеях, всегда им любовался, но знал о нем очень немного. Известно только, что в 1772 году в Копенгагене было основано фарфоровое производство, которое через несколько лет купил датский король. Фабрика стала именоваться Королевской, избрав маркой три синих волны, как бы символизирующие датские воды: Зунд, Малый и Большой Бельт. Эта марка прославилась только через сто с лишним лет, когда в 80-х годах XIX века на фабрику, перешедшую во владение акционерного общества «Аллюминия», пришли большие знатоки датского народного искусства Филипп Скау и его друг художник Нироп. На художественно-промышленной выставке 1888 года копенгагенский завод выступил с изделиями, нежно расписанными подглазурными красками. Успех был ошеломляющий. Скау, Нироп и профессор Арнольд Крог стали развивать найденную манеру росписи, используя всего три краски — синюю (кобальт), зеленую и красно-бурую. Тонкость массы, чистота и прозрачность глазури с еле заметной синевой, а главное — нежность, мягкость и глубина подглазурных красок создали копенгагенскому фарфору мировую славу. Изделия этой фабрики расцениваются порой в сто раз дороже, чем работы многих других фарфоровых фабрик и заводов.
Кое-где пробовали перенять датскую манеру росписи, но сразу стало заметно, что это — всего только несовершенное подражание. В 1892—1894 годах художники Лисберг и Мартенсен, приглашенные из Копенгагена, расписывали вазы в датской манере на Императорском заводе в Петербурге, а в 1912 году такие же опыты были сделаны на фарфоре из новой, более «мягкой» массы и опыты столь успешные, что в печати отмечали:
«По богатству палитры и по яркости красок подглазурная живопись петербургского завода превзошла копенгагенскую и севрскую».
Обычно вещи, выполненные на Императорском заводе, шли во дворец и только после революции некоторые из них попали в музеи.
Когда Подрябинников основательно занялся подглазурной росписью, директор Дулевского завода сказал ему:
- А не изобретаете ли вы велосипед, когда он давно изобретен? Не открываете ли то, что делали еще в Петербурге? Может быть, следует поехать в Ленинград и познакомиться с опытом этого завода?
Совет был разумный, и Подрябинников отправился в творческую командировку на берега Невы.
- Подглазурная роспись? — задумчиво переспросил на Ломоносовском заводе начальник художественной лаборатории Андрей Федорович Большаков, узнав о цели приезда Трофима Захаровича. — Было время, когда наши художники действительно расписывали вазы под глазурью, но уже после 1928 года прекратил это делать Ризнич и другие художники, а потом и я.
Выяснилась немаловажная подробность: в Ленинграде расписывали под глазурью не растворами солей — это здесь не привилось — а порошковыми красками, которые проникают только в поверхностный слой фарфора и поэтому тон их после обжига не так глубок и нежен. Кроме того, подглазурная роспись практиковалась только на крупных, уникальных вещах.
Художник И.И. Ризнич, чьи своеобразные рисунки на изделиях Ломоносовского завода Подрябинников хорошо знал, подробно рассказал о технике живописи, интересовавшей Трофима Захаровича: какие соли наиболее устойчивы, какая краска и при каких условиях «заметалливается», какая вообще «капризна», и познакомил с инструментами.
Подрябинников показал маленькие фарфоровые фигурки, вылепленные дулевским скульптором Сотниковым и окрашенные растворами солей, а также свою чашку с изображением вороны. И Большакову и Ризничу вещи очень понравились.
- Приятная гамма! — похвалил Ризнич.
- А что в этой области у вас сделано? — поинтересовался Подрябинников.
- Ничего. Работала когда-то художница Кордес, но неудачно: краски у нее получались какие-то глухие.
Трифон Захарович понял, что он идет по пути, по которому до него разве что только пробовали пойти один-два художника, но, побоявшись трудностей, так и не пошли. А Подрябинников видел, что роспись не порошком, а растворами солей под глазурью таит огромные возможности.
Много добрых советов дали ленинградские мастера дулевскому художнику. Он вернулся домой с желанием пробовать и пробовать новые краски, открывать и утверждать законы в хаосе неизвестного. Но многое мешало ему в этой трудной работе. То его обвиняли в бездеятельности, хотя он неделями с утра до вечера просиживал над решением какой-нибудь технической загадки, то упрекали в том, что нет результатов, как будто открытия в неизведанных областях приходят в точно установленные календарные сроки. Когда ему что-нибудь удавалось, от него немедленно требовали рецептов, а если он отказывался дать еще непроверенные материалы, его именовали «секретчиком», которому нет места на советском заводе. Подрябинникова преследовали зависть и недоброжелательность.
А он, склонясь над пузырьками с бесцветными или обманчиво яркими растворами солей, пробовал их тысячи раз и все записывал, чтобы не повторять ошибок. Как и любому исследователю и открывателю нового, ошибки сослужили добрую службу: помогли приблизиться к истине. Текущих заданий с него не снимали, и ему приходилось работать за двоих.
У него ныли глаза от усталости, давало перебои сердце от неприятных разговоров; недостаточно опытный еще в обращении с солями металлов, он терял сознание, отравленный парами хлора, но он работал, работал и работал, потому что у него были еще и другие препятствия, с которыми нельзя было не считаться.